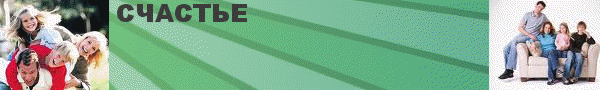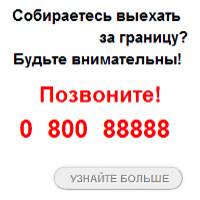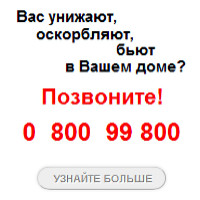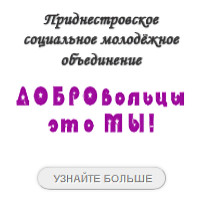Как защитить мужчин от семейного насилия

Мотивы борцов с семейным насилием могут быть самыми благородными — однако благими намерениями бывает вымощена дорога в ад.
Как заметила сенатор, «женское насилие, давайте уж начистоту, до сих пор воспринимается в обществе как допустимое. <…> Считается, что мужчины физически сильнее, а значит, им легче избежать домашнего насилия. Но ведь насилие бывает не только физическое. Нередко мужчин ставят в безвыходное положение, манипулируя деньгами, детьми, самой возможностью сохранить брак. Не потому ли мужчины после 40 лет умирают от инфаркта гораздо чаще, чем женщины?»
В чем проблема с «насилием» вообще и со стремлением защищать от него мужчин в особенности?
Понятие «насилия» приобретает настолько обширный смысл, что оно становится бесполезным для преследования, собственно, насилия как такового — зато очень полезным для преследования чего угодно еще.
Во многом это связано с порчей языка. Рассмотрим, например, англицизм abuse, который по-русски чаще всего и передается словом «насилие». Впрочем, иногда так и пишут кириллицей «абьюз». В английском это слово с широчайшим значением, которое означает «злоупотребление» практически в любом смысле. Пьянство — это substance abuse. Ругань — это verbal abuse. Педофилия — это child abuse. Пытки — это тоже abuse. Abuse совершает и, например, недобросовестный работник, который злоупотребляет доверием нанимателя. То есть это слово означает всё что угодно, от мелких проступков до тягчайших злодеяний.
«Имярек — абьюзер» может означать что-то в диапазоне от «он матом ругается» до «он садист, насильник и убийца».
Но когда мы используем иностранное слово, это еще полбеды. Хуже, когда привычное нам русское слово — «насилие» — начинает приобретать неоправданно расширенное значение. Жена, которая пилит мужа за то, что он мало зарабатывает, поступает очень глупо. Еще никто не стал миллионером от того, что его пилили. Но она не совершает ничего похожего на насилие. Есть масса недобрых, несправедливых, вредных и контрпродуктивных поступков, которые не являются насилием.
Почему так важно подчеркивать эту разницу? Потому что насилие — это то, что правильно и уместно останавливать извне. Побои, угрозы жизни, насилие в традиционном смысле должна пресекать полиция. Она, в этом случае, может и должна выломать дверь и увести безобразника в наручниках.
Называть «насилием» что-то совсем другое — например, огорчительно натянутые отношения в семье — значит вводить государственное принуждение туда, где оно может причинить только вред.
Наладить пошатнувшиеся отношения могут сами супруги, с помощью, если они пожелают, семейных психологов. Можно (и нужно) пресечь физическое насилие. Нельзя заставить людей любить друг друга. Если мужчину больше не любит его жена — это очень печально, но государство тут ничем не поможет.
Хуже того, чем больше мы создаем возможностей для вмешательства в семью, тем больше мы создаем почвы для злоупотреблений. У любого государственного вмешательства есть неизбежные побочные эффекты.
Посмеявшись над тем, что «в СССР секса нет», мы заплатили высокую цену
Мы создаем возможности для преследования людей по крайне неопределенному признаку. Если «насилие» начинает означать все, что угодно, «насильником» (или раз пошло такое равноправие и феминитивы) «насильницей» можно объявить кого мы захотим — человека, занимающего жилплощадь, конкурента, политического оппонента, просто кого-то, кто нам не понравился.
Нет никакой гарантии, что на следующем повороте истории те же обвинения в «домашнем насилии» будут обращены против тех, кто помогал продвигать этот концепт.
Мы создаем ситуацию, когда сам семейный статус становится источником уязвимости — так что люди будут просто избегать брака.
Да, можно указать на тяжкие преступления, которые могут совершаться в семье. Такие случаи бывают. Хотя, по статистике, семья — это гораздо более безопасное место, чем, скажем, предприятие.
Но преследованию, собственно, преступлений, размывание понятия «насилия» только мешает. Если «насильник» — это кто угодно в диапазоне от реального насильника до того, кто матом ругается или еще как-то огорчает, — то слово просто перестает быть клеймом и обозначать тяжкое преступление.
Это подобно тому, как на Западе политические активисты, бросающиеся словом «расист» направо и налево, создают в итоге ситуацию, когда само слово перестает обозначать что-то страшное и позорное, раз уж все кругом расисты.
«Равноправие» — идея, что закон, который защищает женщин, должен в той же степени защищать и мужчин — тоже может обернуться нехорошо. Несколько лет назад в США был ряд известных случаев, когда взрослые женщины (чаще учительницы) совращали подростков 16–17 лет (без какого бы то ни было насилия) и садились за это на огромные сроки — Дженифер Фихтер, например, получила 22 года.
Нас может шокировать такая суровость — но это именно проявление равноправия. Если справедливо посадить мужчину за совращение девочки-подростка, то равноправие требует такого же обращения и с женщиной.
Такое равенство абсурдно — как абсурдно оно и в ситуации «семейного насилия». Женщина гораздо более уязвима — слабее физически, связана беременностью или детьми, ей поэтому гораздо труднее вступить в повторный брак, и поэтому она больше нуждается в защите.
Но это должна быть именно защита от насилия в понятном и традиционном смысле. Размывание этого понятия никак не помогает обузданию преступников и только создает дополнительные возможности для злоупотреблений.